
Родилась в 1998 году в Минске. Живёт в г. Санкт–Петербурге; окончила литературную бакалаврскую программу СПбГУ и Бард Колледжа*; студентка литературоведческой магистратуры НИУ ВШЭ СПб; исследует американскую и русскую поэзию XX–XXI вв.; участница семинара «Красное знание» (с 2019) и «Теорії та практики феміністського та жіночого письма» (2020). Тексты на английском, русском и беларусском языках публиковались в зине Relatively Dark Blue Neither Purple Nor Green (WYBCx, радио Йельского университета), на порталах «Ф-Письмо» на Syg.ma и «Новая карта русской литературы», в журнале «Двоеточие».
* нежелательная в России организация
Сопроводительное письмо Фридриха Чернышёва:
Писать это письмо было непросто: и не только потому, что есть риск впасть в исключительно собственные проекции (меня как номинатора многое объединяет с авторкой — мы однофамильцы, наши тексты феминистично-политичны etc.), но и потому, что оно в определенной степени не нужно: есть такая поэзия, для которой лучшая рецензия — она сама. Такова поэзия Юлии Чернышёвой: с прочтением «главные» мотивы растворяются: каждая строчка добавляет свою линию, письмо становится ризомой смыслов и сравнений, личного опыта и политических позиций.
Сперва поэзия Чернышёвой может ощущаться нарративно-дневниковой, составленной из комментариев и переписок в социальных сетях. Обрывки воспоминаний, фраз, вопросы читатель_ницам (как вы удерживаете опыт внутри одного нарратива? как отмыть от него потом руки?) создают ощущение автоматического письма, т.е. неосознаваемо-трансового состояния. Но уже через несколько строк становится понятно, что письмо тут вполне осознанное, сложное, требующее перечитывания.
Необходимость эта — инструмент, которым пользуется авторка:
…ты перечитываешь и говоришь, в этом нет пунктума, оно не цепляет, не ясно, в чём художественная деформация. я отвечают мол в этом прикол — это лишь дырочка…
Где-то с третьей-четвёртой строки ребус начинает проясняться: всё отчетливее проявляются политические мотивы, сплетенные с мотивами личными:
…мой дедушка ослаб настолько, что просто позвонил маме и молчал в трубку, так что было слышно (постоянно включенный) телевизор из его комнаты, беларусь-5…
… здесь каждый вдох санкционирован, но — судейский свисток. бледная кожа бабушки в деревянной коробке…
Эти две линии (личное и политическое) сами по себе создают мощный элемент отстранения. Но вскоре Чернышёва вплетает объединяющую их третью линию: опыт существующего, живущего, взрослеющего в этой политической реальности человека. И здесь чётко прослеживаются рефлексии взрослой авторки касательно «искусственного», максимально антропоцентричного, колониального и т.д. властного дискурса (в части текстов упоминается диктаторский режим Беларуси, а один из них полностью построен на перечислении телеканалов страны: тут изящно спрятан ещё один ребус-инструмент, что-то сродни found poetry: оказалось, что телеканалы Беларуси действительно так называются):
…Беларусь — это терминальная стадия депрессивного состояния и не более. я пишу это на колонизаторском диалекте, но иначе вы бы не поняли (и мы тоже): у меня русская фамилия, папа, самооценка — всё та же русская….
А также — критика абсурда якобы «народных» традиций (на самом деле такой же позиции власти, как и в первом варианте, конечно), пропущенных через опыт взросления маленькой девочки:
…я всё ещё не понимаю, зачем мы кладём родных на обеденный стол в этот день. и зачем этот рис с
изюмом…
Следующий слой — противопоставление (объединение?) всем известных ощущений:
… смерть —
это легитимация ватных комочков, каждой детской слезы за прокалываемый ежегодно палец злобной врачихой…
и переживаемого лишь теми, кто так же включен в поэтические практики переосмысления…
Авторке «жаль», если вы узнаете в тексте цитату Ингер Кристенсен, хотя, конечно, это ещё один красивый ключик-подсказка: вот она, читатель_ница, моя многослойная поэзия, всего лишь одна из форм возможных переосмыслений языка.
А дальше тебе предстоит разбираться сам_ой в поисках смысла и критики властных дискурсов в этом мире. Не потому, что я так решила и даже не потому, что хочу этого, но потому что являюсь коренным обитателем этого мира, как и ты.
Попробуй еще раз оглядеться, перечитать, обнаружить новые слои. И ещё. И ещё.
Подборка номинируемых текстов:
сплести будни из радостных отголосков любимого, милого, тёплого,
создавая 3D-макет жизни, в которой есть всё, кроме вкуса и запаха. остерегайся.
ватный комочек в углу головы — «не думай о смерти» — он знает твой адрес,
и это страшнее, чем алгоритмы всех соцсетей вместе взятых.
когда мой дедушка ослаб настолько, что просто позвонил маме и молчал в трубку,
так что было слышно (постоянно включенный) телевизор из его комнаты,
беларусь-5, спортивный канал, “с разгромным счётом 6:0” жизнь забирает самое
милое —
здоровье, любимую, память о предвкушении. язык
гнётся в каждую из сторон во всех измерениях, даже тех, которые не воспринимаются
мозгом. филологи спорят, как конвертировать отклонения в смысл. каждый раз
какого-то пазла уже не хватает, когда ты открываешь коробку. с днём рождения.
а я не могу рассказать ему, почему его комментатор футбола больше не выйдет в эфир,
сказав раз за карьеру чистую правду, а не конструкцию.
здесь каждый вдох санкционирован, но — судейский свисток. бледная кожа бабушки
в деревянной коробке — так себе подарок на день рождения. я всё ещё не понимаю,
зачем мы кладём родных на обеденный стол в этот день. и зачем этот рис с
изюмом. если это и правда пир — давайте сьедим саму (смерть —
это легитимация ватных комочков, каждой детской слезы за прокалываемый ежегодно
палец злобной врачихой, гнусавящий запах спирта). детство — замедлённый
отрезок пути в ненавистную школу, а не практика сопротивления.
вспоминаю, что последний раз, когда мы правда с ним говорили —
обсуждение евро-20-16. мы оба болели за наших, и они победили.
потом я перестала смотреть телевизор и даже евро, и единственный
из языков, что остался — испечь пирог раз год в июле, но не стало и аппетита.
это страшно царапает всё изнутри, острым углом, осознание вероятного —
пережить свою релевантность, потерять трудность, с которой даётся
каждый из этих сгустков, создававших макет, который позже сминает тире —
между датой и датой своим грузным весом.
он пошёл ночью в ванную, споткнулся, упал и лежал до утра, (сломалось ребро),
пока его не нашла всё же мама. оказалось, что неотвеченные — хуже всех
разговоров, что у них были. как однажды папа набрал её номер случайно,
и она услышала в трубке: “лобовое, да нет, шансов нет.
надо сообщать вдове и детям” — у него шёл на работе по телевизору сериал
с криминальным уклоном. мне было где-то двенадцать, я надеюсь, никогда не будет
так страшно. думаю, все наши проблемы от телевизора. думаю, в смерти всех
виноват телевизор.
к сожалению, это всё не облегчить письмом и письмо не для облегчения (для этого
существуют другие практики высвобождения, куда более осязаемые).
скрыть (этот пост) от родителей. раскусить новый вкус — осознания
или вины. правые правы: высвобождение неизменно приводит к потере.
правые правы: это страшно — забвение и волокна бавоўны.
так вот после смерти
лучшие из нас вспомнят все забытые и ненаписанные удачные строки любимых поэтов
худшие — станут этими строками, будут колоть изнутри каждого тёплого, впитывать
капли их крови,
но никогда — ни слезинки.
а мы, остальные?
_________________________________________________________________________________________________
на ходу перевожу часы и стихи актуальных поэтов 50-х.
ты загружаешься. в твоём хранилище фрагментарных знаний новый аудиофайл
моего голоса, и ты слушаешь слушаешь слушаешь,
как сердце бьётся в разжиме трансатлантической турбулентности,
в режиме “i’m not from here, not from here, not from”.
наконец на вопрос “откуда ты взялся” достаёшь карту и ставишь точку.
это место — твоё. моё — всё остальное, в том числе — ты.
написала себе в блокноте неизбежным девизом silence, stillness, и solitude,
хотя голосом в голове «солнце, солнце и солнце»,
раз уж ты свет-
ишься, я пишу на твоей бумаге, своими чернилами.
да, будет трудно перестать друг друга цитировать,
перенимать интонации, примирять акцентирование и стрессы,
примерять accents and stressing, главное — скорость. можешь попробовать
удалить из вокабуляра мои словечки, как зубы (если бы) мудрости,
т.е. числа, восьмёрки, в том числе — перевёрнутые,
по которым кончиком пальца — как зажатый backspace
всем попыткам противостояния. ты поддался
на мою бессознательную интервенцию безо всякого внутреннего сопротивления
(это твои слова). тебя не пустили на родину, дважды, за гос-
измену. зато ты. зато ты не задал ни одного лишнего, лишь наводящие.
признания на беларуском на московском
вокзале — как наводнение. мосты всё ещё разрушают мгновения
и разрешают дать слабину, разводя руками, разжижают разреженный воздух.
превращают кардиограмму города в сломанный ритм,
лишь бы ты перестал рассуждать о поэтическом
потенциале. я снова в нью-йорке. штырит пиздец. у мегаполиса инфаркт
миллиарда. несчастные «мау» задерживают трёхчастный
рейс «киев–нью-йорк» на восемь часов. выхожу в город, вовне
стыда и часовых поясов. в руках карта,
на ней в круг взято название. в телефонных заметках слова
снова обретают телесность. такое не снилось даже фрэнку
о’харе.
«сижу на веточке своего рассудка» (но лучше так — чем ни за что отсидеть сутки)
и смотрю, как она прогибается под моим весом (лучший вес — это ноль, если знаешь,
откуда цитата, мне жаль). под моим весом я весело наблюдаю,
как она прогибается. я пилю её под собой.
я проваливаюсь и просыпаюсь, вся в чём-то липком и логоцентричном.
а вас беспокоят ночные непроизвольные телепортации? как вы удерживаете опыт
внутри одного нарратива? как отмыть от него потом руки? история пишет поверх
самой себя, история исправляет себя и вытягивается во все направления — какую из
версий
себя
ты сегодня наденешь на публику? какую спрячешь в шкафу и заморишь голодом?
найдёшь ли смелость на что-либо, кроме выверенного заранее?
не обращай на меня внимания. это привычка перед поцелуем проверить,
насколько другой человек into it. да, перед каждым.
вернёмся к тебе — ты что? не заученный ли рефлекс? ты здесь, ты со мной?
если да, это так странно — как отбивной ритм вопросов “всё хорошо?” в нашей
постели.
всё охуенно. мы же в постели.
давай целоваться как будто без тела и глаз и ментальных расстройств и всего остального
давай трахаться будто без тела
как будто его никогда не было и не надо переживать, что оно было и скоро истратится,
переживать это не надо. это настолько серьёзно — об этом не предупреждают даже на
сигаретной пачке.
история пишет поверх
самое себя
писать — это расчёсывать укус насекомого — после каждого из движений
знаешь, что пора останавливаться.
хочу ещё.
всё охуенно.
_________________________________________________________________________________________________
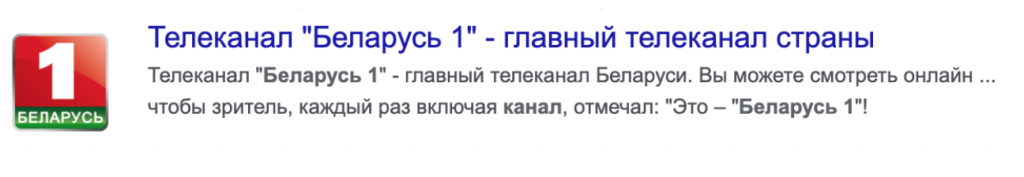
эллипсис — троп коллективного бессознательного; мы глотаем
слова так же, как проглотили тотальную девальвацию в девятом,
одиннадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, как капсулы
йода, сублимируя существование щитовидки, выжженной чернобыльскими
дождями. на месте родительских (чьё присутствие и участие — само по себе
неестественно) пропусков додумываешь слова о любви
в стране, где никто ни во что не верит —
только в то, что в смерти нет ничего *такого*, это всё то же нищее государство,
только без ежегодного обвала курса и безбожно пустых прилавков. если Бог
и был тут в гостях, то он приземлился в Гродно и сразу съебался в Европу;
в Белосток, за кровью, плотью и плазмой диагональю тридцать шесть дюймов;
это нормальная температура, средняя по больнице
среди узников концлагерей; наша память — груды тел в куропатах, поэтов,
поэток, прочих
мірных, адданых роднай зямлі. симулякр государственности, Беларусь — это
терминальная стадия депрессивного состояния и не более. я пишу это на
колонизаторском диалекте, но иначе вы бы не поняли (и мы тоже): у меня русская
фамилия, папа, самооценка — всё та же русская.
узкие рамки реальности, соскребая родинки с шеи, твердят: «я не оттуда»,
точно так же как не оттуда Мицкевич, Сутин, Аполлинер, Шагал и Выготский.
я оттуда, откуда каждый должен уехать.
каждому настоящему беларусу хочется возвратиться
из эмиграции. взять стакан блевотно-пшенично-светлого и десерт «корзиночка»
в закрытом «центральном». тихонько реветь под ненавистным флагом («заря
над болотом») с видом на пр-т незалежнасцi,
согреть паховую область шенгеном в кармане джинсов из зары,
просвечиваясь метастазами районных центров со смешными названиями,
например, Санкт-Петербург. или Узда. (ноябрь)
_________________________________________________________________________________________________
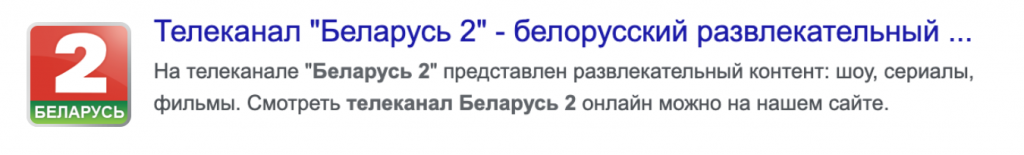
вы не подумайте, это мирные люди. это белый
целительный шум сердечного ритма — в их груди крошится хрусталь от бокалов с
советским шампанским. в их ушах шёпот невыполненных обещаний. и они идут на Его
голос.
это больше и дольше меня, но был есть и грядёт новый текст за семью печатями
избиркома; давления перепадут. ресурсы перераспределятся. и нас вынесет
на проспекты циркуляция наших слёз.
глубоко течение в нас — бессимптомно, а последствия необратимы.
имеющий ухо да слышит.
из моих уст — скорее смешно, нежели страшно,
но моими устами (июнь)
_________________________________________________________________________________________________
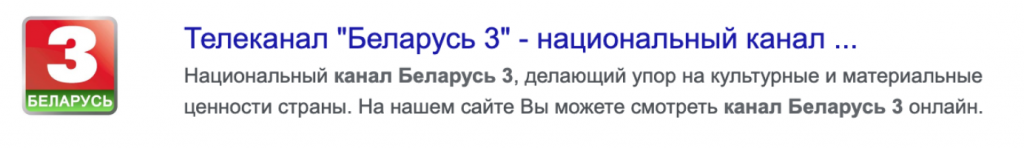
как часть головоломки, что всегда остаётся лишней и оттого, возможно,
— самой ценной. границы проступают рубцами в местах, где их не было. история
прорастает корнями
вверх — и не вовремя — как кресты куропатов вдоль трассы, как угроза,
что всегда будет мерцать с востоко-севера.
кандидатка на роль кандидата вместо речи с плаката — плачет.
говорит, что хочет вернуться домой и жарить котлеты,
но теперь дома нет, и она тут. было бы страшно пообещать ей строить новый.
на входе спрашиваю у приветливой девушки в форме, где выход, и она хмурится,
говорит, “о выходе не говорили”. что ж, научимся обходиться без выхода.
есть только ты, я и вагнеровцы в санатории, угрозы новым терактом,
это поле с чертополохом, хватающим за ноги просьбой не торопиться.
и нам хватило. © нас хватит. нас сорок тысяч. может быть, шестьдесят. может быть,
миллионы. революция — это ребёнок в толпе протестующих на шее у папы.
а с орбиты мы — космический мусор, от которого не защититься.
отпечатки метеоритных дождей, напоминание — о том, кто летит на встречу
с землёй в начале августа этого года в надежде обрести дом –
хотя бы после крушения. как вы и просили — чтоб была видна кровь –
наш астероид-отчаяние — весь в белом. (июль)
_________________________________________________________________________________________________
![]()
_________________________________________________________________________________________________
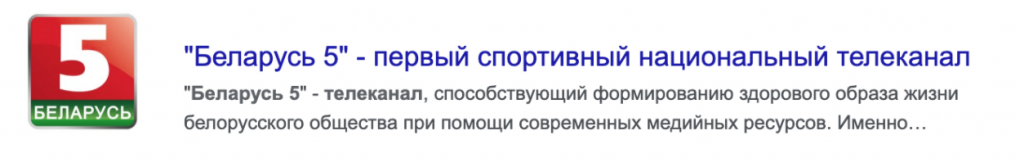
я говорю, «они приезжают на бусах тёмно-синего цвета, часто без номеров,
выбегают, человек 10-20, с оружием, наставленным на соседей и соседских детей.
я бы не верила, если б не видела, да и глядя на это, я не хотела бы верить.»
д говорит, «иногда – с номерами.
номера этих бусов курсируют ночными рейсами по чатам районов. выходя на прогулку
с собакой на выходных, ты держишься за эти цифры как за спасательный круг. ты
видишь цифры
повсюду. ничего кроме них не существенно.»
говорю, «я стояла за фонарём, одна на той улице, и смотрела, как его били
те двое, смотрела на его связанные, повисшие безжизненно руки. а теперь я сижу и
жду,
когда меня спросят, что я сделала для того, чтобы предотвратить хоть что-то из этой
праздничной мясорубки.»
спроси фарш о его гражданской позиции.
м говорил, «я не хочу уезжать, что мне там делать, я даже не знаю польского,
и, если честно, я не хочу учить никакой польский.»
город говорит, что его продувает насквозь из оставленных безлюдно квартир — сколько
друзей
бежало отсюда, впервые спокойно вздохнув — где теперь? вздохнув так, будто это
бесплатно, будто вся жизнь до не была кошмарным кредитом, который пришлось
возвращать этим летом телом себя и всех близких —
ЕС говорит, «ущемление прав человека недопустимо.» EC говорит, «осуждаем.» EC
говорит, «высказываем беспокойство.» ЕС говорит, «цель визита?» ЕС говорит, «ваша
страховка?»
я говорю, меня выворачивает наизнанку от их раздутых тел в форме, от синих бусов, от
того, кому смотрела в глаза
до тех пор, пока он не бросился на меня, будучи в два раза крупнее, в руках оружие.
возле школы, в соседнем дворе, у поликлиники. меня передергивает
дрожью в ногах, что смогли унести от них трижды, но на четвёртый, мне снится,
меня уничтожат, я говорю, ты не знаешь, как это, когда даже писать
слишком страшно.
н говорит о поэтиках разложения в американской поэзии 60-х,
я говорю о тактиках сопротивления в русской и американской поэзии 80-х,
но на самом деле мы все говорим об одном, и они говорят, «м*нты в москве охуели,
десяткам людей дали сутки.»
у говорит, «он ушёл к стеле и не вернулся». и говорит, «последний раз видели
на остановке у кафедрального». н говорит о поэтиках разложения, чтобы не думать о
том, каково было папе, которого они забирали по факту не из участка, а из больницы.
на улице говорят, «он стоял безоружный с поднятыми в воздух руками, и они его
расстреляли,
белая майка, пустые руки и бетонные улицы застывшего воя этого блядского города,
который пора было сжечь в 11, 19 веке и дважды в 20-м, но зачем-то его вновь и вновь
строили заново — чего ради,
если он не верит документальной съемке, простреленным ногам и увечьям подростков,
нолям промилле,
если он нам не верит, да ну его нахуй — со злостью выплёвывает м.,
но он всё равно им предательски снится, и они плачут в уборной в перерывах между
занятий,
потому что в классе никто не понимает, не задаёт вопросы, не знает, что такое то, о чём
они говорят на семинарах — ущемление. виза в кармане не греет, все вокруг
раздражают, по дороге домой в красивом трамвае с вай-фаем —
телеграм-новости, каждый раз открываемые с ощущением, что самое страшное ещё не
случилось, но может —
в любой из этих сросшихся в ком дней. он застрял в горле. мы не говорим.
марши женщин, марши пенсионеров, марши в инвалидных колясках — марши тех, кто
привык к немоте, кто свободно владеет молчанием, сохраняемым до тех пор, пока
каждый из маршей не забросан гранатами.
моя одноклассница говорит, это сознательный выбор, говорит, каждому своя правда,
говорит, она действует по закону.
(март)
_________________________________________________________________________________________________
ОДА МИГРЕНИ И ГИДРАДЕНИТУ, СПОЙЛЕР: КОВИДУ
выпали выпали выпали
всё как на духу, как без духа
выжигай, по краям, я на ощупь узнаю эту бездну
и языки пламени
как я могла назвать хоть один из них словом «родной», ну какой из меня, скажи,
“native”
и время проходит. мне 23. я учусь что есть мочи, и её почти не осталось.
забываю про принять душ. безответственный иммунный ответ. воспалилась кожа под
мышкой. как-то стыдно признаться. теперь понимаю,
каково, когда голова накаляется как белый фосфор, настолько, что любой наклон вниз
или в сторону заставляет почувствовать приближение
к состоянию, из которого пишутся такие стихи или всё внутри становится
г(л)адко-розовым и обнуляется. как-то стыдно
признаться, страховка не покрывает, денег нет и не будет.
снова комканный флаг судорожно запихивать под футболку
снова проснуться в кошмаре, в котором ты превращаешься в клубки уродливых букв:
дфр днр упфр фсб кгб
в котором ты так себе ролевая игра: твой папа спецназовец, а я живу с тобой в комнате
в общежитии, ты 23-летняя прокурорша, а я
конституция — и дальше по списку
а тут ты, горишь изнутри, светишься фосфором, говоришь «потому что влюблённые».
хочется объяснить, мол, милый друг, на кого тут ещё возложена санкция в виде чувств,
которые ни обналичить, ни вылечить, мы не увиделись. ни разу в жизни весной.
самое счастливое из воспоминаний — идём в минус двадцать на ужин в макдональдс,
когда съехались в минске на целых три с половиной февральских недели — я ждала
карамельный макфлурри, как твоё второе пришествие. я так надеялась,
что все билеты обратно сгорят, что начнётся война и ты никуда не уедешь. как-то
стыдно признаться —
и поезда отменяли, и война началась, и ты уехал
в последний из разрешённых дней пребывания. инспектор по иммиграции к нам так
привыкла, что посочувствовала, а в след. раз была пандемия; все цепочки соединявшие
эти клочки земли и бумаги натянулись, нащупывая стенки пределов.
блять, представь, каково родиться не с паспортом, который вскрывает по капилляру
всю систему кровоснабжения
этих хрупких планов на будущности, представь, каково не просыпаться ночью в
кошмаре, в котором
твоя зп двести долларов, обвинение запросило 15 лет всем, у кого дома нашли одежду
белого и небелого цвета, курсы для активистов стоили 90+ к.
в этом сейф спейсе можно было не разуваться. всё на даче пахнет тюрьмой и арестом,
каждая ягодка — это агрэст, мэра повесили
на главной площади, и мы детьми приходили смотреть на разбухшие ноги.
по-настоящему страшно: город минск, не сгоревший дотла,
рядом в комнате кто-то вечно не дышит и не стонет сквозь сон,
путь домой не через полицейский участок,
цветут гиацинты, распилены гранты,
активисты с дипломом топовых универов покупают во вкусвилле что-то кроме
уценённых бананов, засыпают по дороге домой в яндекс такси, таргет реклама “пройди
курс и начни инвестировать”, ну а что, это как в самолёте — сначала маску себе, потом
респиратор P3 (таких не осталось в больницах) и пару дизайнерских тканевых, пусть
будут, на выход, лайфхак: частную скорую не обязательно ждать трое суток.
кто-то всерьёз засыпает с улыбкой,
согреваемый мыслью о дворянском происхождении, годовая подписка
на стриминг музыки, плейлист “только для вас”, съёмная студия
возле метро, некоторые открыли на наследства издательства и говорят про будущее
трансмедиальных проектов,
сегодня поэт — больше чем просто поэт, он и куратор, и менеджер, и меня всё-таки
садят за разжигание
межклассовой розни, а я узнаю прокурора. твоей маме в роддоме
отдали скомканное детское одеяло вместо тебя и сказали: «младенец умер» — у него
было несовместимое с жизнью гражданство. какое счастье. в 90-е базовый доход
всё-таки выдали — больными детьми, которые пишут стихи и боятся аттракционов. так
мы и встретились — в парке челюскинцев, на батуте в углу я ревела и просила меня
выпустить, папа просил успокоиться и отпрыгать заплаченные пятнадцать тысяч, ты
ревел рядом со мной, мы все заревели, оказалось — мы в поликлинике, и дальше будут
уколы.
мама сказала “как комарик укусит”, но она врёт, это был полный трындец.
соседка нежно размазывает комара между пальцами, большой, указательный,
чёрный котёнок с обрубком вместо ноги, легонечко падая на каждом шагу, перешёл мне
дорогу, (ты морщишься) пока этот текст
тихонько писал себя на подкорке, а потом треснул мигренью и всё, садись и записывай,
папа снова начал курить, десять лет назад бросив кого-то, кто-то снова начнёт что-то
юзать, это случится как первый снег — практически празднично.
кривь свою рожу на каждую из тех реплик, что я скажу в этой жизни, мне похуй, на
каких ещё разных ивентах
мы с тобой сядем на белые стулья (икея, «гунде») — твоя белая спинка к моей кривой
спинке, и ты будешь гундеть сколько влезет,
можешь сказать «у меня не вопрос, а, скорее, комментарий», а потом публично
размазать, пожелать мне мучительной смерти,
всем похуй, только укладывайся в наш любимый регламент, спать как в гроб дедушки,
о который мои кошки точили когти, пока папа расплачивался с гробокурьером, а я
училась в своём сраном питере говорить на языке академиков в третьем колене
(dissertation writing sabbatical), пока дедушка умер сторожем и бабушка дворником с
раком. я научилась, мне похуй, подотрись своим tenureship, в скорой сказали
такой быстрой смерти можно только завидовать, я уже начала,
кривь свою рожу на каждую из моих реплик,
мне нельзя только писать в интернете, где я и когда собираюсь лететь, каким рейсом,
всё остальное мне можно
и я напишу, затолкаю тебе прямиком в глотку и не выпущу, пока не попросишь
прощения,
если мы что-то не сделаем, оно всё к чертям разлетится, неужели ты так и не понял:
мысли тех, кто сегодня стоит лицом к стенке с пакетом на голове (не из вкусвилла)
и принимает высшую меру градуса безразличия, мысли глянцевой пули, которую
реально они выпускают
в эту секунду, всё начинается с лёгкого раздражения на своих ближних, мигрени,
разговоров об операции
и той пары дней, в которые забываешь о душе.
_________________________________________________________________________________________________
MINSK LOOKS LIKE AN AFTERLIFE
надо одеться получше раз возьму самый дешёвый там кофе;
зачерпнуть смелости на звонок по телефону; заменить стёкла в очках; записаться к
зубному; кастрировать кошку; оплатить сразу на входе или высматривать контролёров
на остановках; забежать в фастфуд по дороге домой или вымучивать из себя скучный
ужин; выигрывать гранты или ничего не выигрывать;
сидеть и смотреть, как протекают дедлайны;
как морозильная камера, как проблема, которую игнорируешь, потому что нет сил
звонить по телефонам, контролировать чьи-то решения, не то что там — зарабатывать;
назвать тебя подругой или поменять тебе пол в разговоре, чтобы не отвечать на все
лишние; бояться что ты в кого-то там влюбишься, у себя дома;
или ничего не бояться, забить и чувствовать себя в целом ок.
даже обидно не чувствовать страха потери. ничего не бояться. ничего из того, что
боялось, не выжило. не вполне ясно только, что отвечать на вопросы бабушки о планах
на будущее. стараюсь ей объяснить что-то там про науку, но в неё она слабо верит;
попытаться представить себе человека, которого я описываю в мотивационных заявках,
пытаться иметь её мысли, смотреть её сны, жить её жизнь
с перерывом на тупое ноющее ощущение неприспособленности к ритуальному
проживанию всего будто всерьёз, всего радостного и спокойного.
ты перечитываешь и говоришь, в этом нет пунктума, оно не цепляет, не ясно, в чём
художественная деформация. я отвечают мол в этом прикол — это лишь дырочка —
стеклянные глаза-хомячки высоколобого из патрульной машины, пытки пяток с
клюквенным пятнышком на месте мозоли, мужчины со стёкшими лицами,
город в пролежнях, в обветренных ранах на месте уехавших, и ему не хватает
критической глубины, работы с средствами (в том числе языка), чувства ритма,
выдержки, силы воли, харизмы, характера,
это вовсе не те сограждане, с которыми ты хотела иметь революцию?
они хуже тебя и тебе с ними скучно. раздражают отсталые, выцветшие, практически
ч/б бабки в автобусе, с разговорами о цветных революциях и фашизме, спонсорах из
ЕС. само их существование ахронично и, наверное, для картинки твоей страны
будущего их неплохо было б элиминировать,
так что вы с коронавирусом здесь на одном берегу, пока мне не очевидно,
как бы выглядела моя голова, если б питалась иначим контентом,
видела бы другую реальность: мужчина с грубо стянутой на затылок кожей,
тёмно-рыжая шея в горошинках пота, каждая женская пятка обязательно с пластырем,
встревоженные маленькие муравьи, раскроившие круги своих рейсов вокруг
опустевших вмиг гнёзд — провожают сородичей с крыльями и основаниями для
отъезда (выезд наземной закрыт), обыски пришли с обыском к обыску,
а там мы и стишки. привычка не идти близко к проезжей части, обходить микробусы,
собранная сумка в углу — ставшая неактуальной, смена белья,
книжка о трансатлантическом авангарде, прокладки, тупое, изнывающее бремя жары,
воздух дан со смещением
в сторону подступающей рвоты, мы долго стояли в очереди на десемантизацию,
а потом всё расплавилось, и стало реально чуть легче: ничего не боялись, ничему не
мешали случаться.
///
горящими пальцами набирала это тебе в поездах из одного текста в другой.
сколько раз я бежала
за кем-то такой же, как и ты, формы. господи,
как хорошо, что не обязательно вслух. и как здорово,
когда не воспринимают всерьёз. как везёт проживать каждую
из этих клаузул снова и снова. как легко дышится в паузах между
телепортацией и трансгрессией
где-то там, каждую ночь, в их грудных клетках, под молочными железами и бледной кожей,
распускается чайная роза.